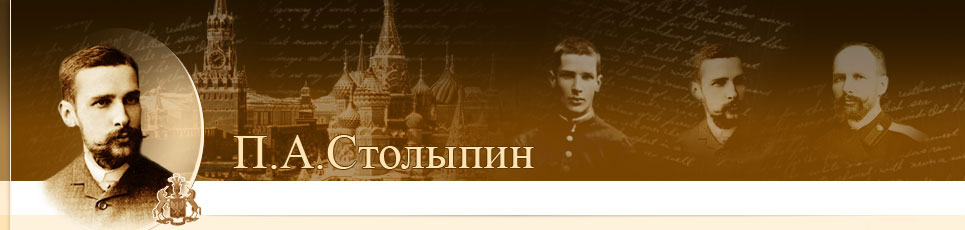Из посмертных статей о П. А. Столыпине немалую ценность представляют также публикации его бывших врагов, оппонентов и критиков. В этом ряду среди самых видных и просвещенных противников можно выделить «первого марксиста» России Петра Струве, который писал:
«<…>Покушение на П. А. Столыпина, приведшее к трагическому исходу – убийству и казни, подымает в уме целый рой мыслей и оживляет в душе множество образов и картин первого, но бурного периода нашей конституционной жизни…
Впервые в России было произведено “политическое” убийство государственного деятеля, которого столь многие люди знали как живую индивидуальность, а не как отвлеченный знак некой политической системы. “Конституция” свела как-то министров на землю, сделала их, по крайней мере физически, гораздо более “близкими” обществу – и это, по моему непосредственному ощущению, разительно сказалось на впечатлении, произведенном известием о выстреле в Столыпина. Сколько людей видело его своими глазами в Государственной думе, не говоря уже о том, что ни об одном министре в России не писали так много и так свободно…
Правда, широкие круги, настроение которых, мне кажется, не передается никакой печатью, ни левой ни правой, с поразительной, болезненной апатией отнеслись к известию о киевском событии. Но при всей апатичности широкого общества и при всем глубоко несочувственном отношении его преобладающего либерально настроенного большинства к политике правительства и его главы, впечатление от выстрела 1 сентября было все-таки совершенно недвусмысленное. Его можно охарактеризовать как непреодолимое естественное отвращение.
Есть в настоящее время охотники бить в набат по поводу “возрождения” террора и эксплуатировать на этот предмет деяние Богрова. Не вдаваясь тут в обсуждение общего вопроса о политических убийствах, как явлении нашей истории и современности, <…> я хотел бы только подчеркнуть, что киевское событие свидетельствует лишь о вырождении террора, и ни о чем более. Из всех крупных политических убийств, когда-либо совершенных в России, оно есть самое случайное, наименее “органическое”. Даже акт 1 марта 1881 г., как ни двусмысленно реагировало на него общественное мнение, даже это убийство Царя, окруженного ореолом двойного освободителя и великого реформатора, по своим виновникам не могло не ощущаться обществом как зародившееся как-то в недрах самого общества, как некое болезненное завершение каких-либо понятных обществу человеческих переживаний.
Поэтому оно своей внутренней стороной вызвало отвращение, но не породило никакого душевного волнения, причиной которого был бы виновник убийства, а не его жертва. С внутренней жизнью самого общества это убийство никак не связано.
Дело тут, конечно, вовсе не в том, что Богров – еврей. Это обстоятельство – случайное с той точки зрения, с которой я обсуждаю событие. Важно только то, что общество в данном случае не только не сочувствовало убийству, оно абсолютно не понимало его. Это был какой-то “технический” акт, бессмысленно непонятный, какое-то загадочное происшествие, ключ к которому недоступен общественному сознанию. Вот почему в обществе почти ожесточенно спорят на тему о том, чем же был на самом деле Богров – “охранником” или “революционером”.
Самый спор показывает, что общество не способно понимать такого “революционера”. А между тем он есть. Народился новый тип революционера. Подготовлялся он – незаметно для общества, незаметно для каждого из нас – в дореволюционные годы и народился в 1905–1906 гг. “Максимализм” означал слияние “революционера” с “разбойником”, освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек. Но “разбойничество”, в конце концов, есть только средство. Душевный переворот шел глубже абсолютной неразборчивости в средствах. В революцию ворвалась струя прожигания жизни и погони за наслаждениями в стиле опошленного и оподленного Пшибышевского.
Быть убитым – это судьба, которая может постигнуть каждого крупного государственного деятеля в любой момент и в любой политической обстановке. А между тем – Столыпин был крупным человеком, и именно такая судьба постигла его.
Правда, не во всем. В одном очень важном пункте он восторжествовал над коварной судьбой. Как бы ни относиться к аграрной политике Столыпина – можно ее принимать как величайшее зло, можно ее благословлять как благодетельную хирургическую операцию, – этой политикой он совершил огромный сдвиг в русской жизни. И – сдвиг поистине революционный и по существу, и формально. Ибо не может быть никакого сомнения, что с аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по значению в экономическом развитии России в один ряд могут быть поставлены лишь освобождение крестьян и проведение железных дорог <…>»