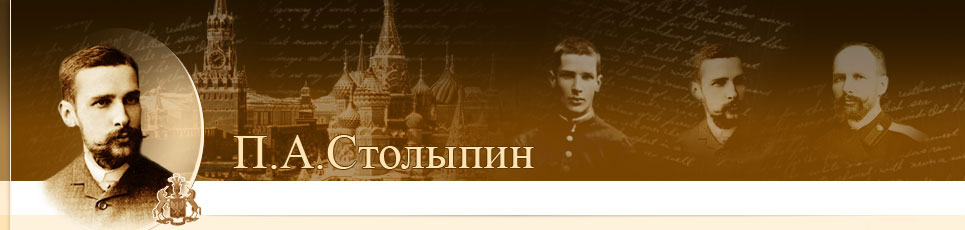Социальный, политический кризис всегда вынуждает общество к поиску новой опоры. Но эта естественная защитная функция государственного организма в современной России осложняется тем, что исторический опыт заводит в тупик: похоже, уже испробованы все основные модели государственного устройства. Однако, после капитального крушения многовековой монархии и почти построенного социализма, мы становимся свидетелями того, что не приживается и капитализм самого «демократического» помета, сработанный по западной рецептуре доморощенными апологетами «шоковой терапии. Государственный механизм тужится, скрежещет своими узлами и выходит из повиновения: причем, среди пострадавших уже не только низовой обслуживающий персонал, но и управленцы – почти до самого верха по вертикали. И потому наши телевести подчас напоминают криминальные сводки: на одного завели дело, другого взяли под стражу, третий в бегах, четвертый предпочитает общаться с российской фемидой заочно. Впрочем, массы давно недовольны, но даже благополучному меньшинству становится не по себе, и, похоже, у всех пропала уверенность в завтрашнем дне…
Между тем, в этой обстановке в обществе происходит, с одной стороны, резкая поляризация сил, а с другой – стремление выбрать мощную политическую фигуру: если не среди современников, то хотя бы среди исторических персонажей. Увы, как и в начале минувшего века, беда состоит именно в том, что трудно найти подходящих людей, у которых государственный ум сочетался бы с бескорыстием, искренним стремлением порадеть за Отечество. Не случайно, еще сто лет назад знаменитый реформатор П. А. Столыпин, находясь уже на вершине государственной власти, сетовал на то, что в огромной России трудно найти пятьдесят толковых губернаторов…
Совершенно естественно, что самые разные, порой даже противостоящие силы, снова обращаются к авторитету этого «русского Бисмарка», которого поминают и «рыночники», и «традиционалисты», и даже «государственники-коммунисты». И сейчас между двумя юбилеями – столетием смерти (5.09.1911) и стопятидесятилетием рождения (2.04.1862) – реформатора не цитирует только немой. Петр Столыпин, словно, становится точкой схождения для вновь смятенных и рассоренных россиян.
Такое всенародное признание давно проклятого и неожиданно воскресшего человека можно объяснить отчасти тем, что правоту его решительных действий, мудрость и мужество подтверждали впоследствии даже самые крайние его оппоненты – конституционные демократы, попортившие в Госдуме главе правительства немало крови. А потом, уже в зарубежье, многие из уцелевших кадетов посыпали голову пеплом, превознося Столыпина и проклиная професмсора Милюкова, своего незадачливого вожака. Впрочем, на невеселые мысли наводят и мемуары некоторых социал-демократов, которые, оказывается, также признавали правоту реформатора, но молчали – из солидарности с фрондой. Да и сам Ленин-Ульянов, было время, не скрывал опасений, что если реформы продержатся достаточно долго, то революционерам в России каюк…
Кстати, эти рассеянные по эмигрантской и постсоветской литературе признания аккумулированы в жизнеописании «П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество» (2002 г.), изданном с благословения высших иерархов РПЦ – в ту пору еще патриарха Московского и всея Руси Алексея и митрополита Кирилла. Таким образом, и современная церковь подтвердила свое уважительное отношение к человеку, который в начале минувшего века выводил Россию из смуты и хаоса на столбовую дорогу реформ.
Но кто же доныне по другую сторону баррикад?.. Если не брать в расчет мелкие и случайные фигуры, паразитирующие на обветшалых цитатах Ленина, Милюкова и Витте, то есть, наших доморощенных «политологов-социологов» – в зависимости от конъюнктуры меняющих свои убеждения как перчатки, то окажется, что самым авторитетным критиком как жестких столыпинских антитеррористических мер, так и земельных реформ остается доныне Л. Н. Толстой. И раньше, и теперь наш знаменитый писатель – самая внушительная опора и защита для тех, кто с реформатором и его идеями до сих пор не в ладу. С этим, конечно, можно мириться, но дело осложняется тем, что Столыпина или Толстого пытаются порой взять в оборот как союзника различные «пропагаторы», культуртрегеры и т. д. – для продвижения своих ведомственных, партийных или хозяйских задач.
А потому давно пора разобраться в сути расхождений двух русских гениев – национальной политики и литературы, тем паче, что их переписка открыта и давно на виду. Однако, как в каждом деле, важны детали, которые, случается, весомей всех писанных и сказанных слов. Ведь, не секрет: живые люди движимы живыми страстями, и часто эти страсти берут над разумом вверх даже у великих людей. Примеров не счесть, и чтобы не слишком отклониться от темы, вспомним лишь примечательный гневный выпад В. Белинского: «Щас бы в морду сапогом, и бить так, чтобы вытекли мозги»…
Вот и в нашем случае – касательно «реакционера» П. Столыпина и «гуманиста» Л. Толстого, – выходит, что последний со своими страстями не совладал. А причина кроется в том, что пытаясь вразумить главу правительства, писатель взял неверный менторский тон, но вскоре сорвался, встретив трезвые доводы просвещенного оппонента, убежденного в своей правоте. Не последнюю роль сыграло, видимо, и то обстоятельство, что Толстой начал спор со слабой позиции, ощущая, быть может, давнюю вину перед родней своего прежнего приятеля, боевого генерала Д. А. Столыпина. Об этой немаловажной детали поведала в своих воспоминаниях старшая дочь реформатора Мария Столыпина (Бок):
«Толстой был другом дедушки, был с ним на “ты”, но не только не приехал на похороны, но даже, после кончины дедушки, ничем не высказал своего сочувствия. Когда ему кто-то об этом заметил, он ответил, что мертвое тело для него – ничто и что он не считает достойным возиться с ним, причем облек свое объяснение в такую грубую форму, что я не берусь его повторить дословнi»…
Известно, что писатель переживал тогда не лучшую пору: его «духовные искания» не имели границ и доходили уже до смешного. В стремлении быть ближе к народу он, например, пробовал тачать сапоги для крестьян или мастерить табуретки. Однако последние быстро выходили из строя, а по признанию одного их облагодетельствованных графом крестьян единственное достоинство сшитых сапог состояло лишь в том, что были они даровые…
Итак, смерть Столыпина-старшего по срокам почти совпадает с пресловутым «отлучением» Льва Толстого от церкви, которое состоялось в феврале того же 1901 года. До сих пор этот акт на широкой публике трактуется, как очевидное свидетельство маниакальной враждебности церкви к гениальному литератору. Однако при ближайшем знакомстве формулировка Синодального определения лишь подтверждает очевидное и выносит решение, которое трудно оспорить, поскольку речь идет о правах самой церкви по отношению к ее пастве. Вот основные положения этого исторического документа: «…И в наши дни, Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностию фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога, во Святой Церкви славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мзвоздояния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа, и. ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковию Православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею»…
Итак, знаменитый человек, вознесшись в гордыне, восстал против церкви – и церковь вполне закономерно, осмысленно и публично заявила о расхождении позиций и взглядов, прервав с ним отношения. Некоторые газеты опубликовали Послание Синода и только: не было никаких церковных проклятий и никакой «анафемы», которая родилась позже под пером писателя Куприна, видимо, для привлекательности сюжета…
Однако столь пространное цитирование приведенного документа не только открывает суть расхождений Православной церкви с Толстым, но также позволяет нам увидеть поздний ракурс писателя. В эту пору он в своей гордыне рассорился со всеми, кто хоть в чем-то усомнился в его правоте: с самой церковью, с домочадцами, со старыми приятелями и даже с теми, кого он никогда не встречал. Не обладая специальными познаниями, опытом в тех или иных областях, он тем не менее в своих посланиях наставлял и поучал самых разных людей. Причем, досталось и государственным деятелям России, и Зарубежья, включая президента США Т. Рузвельта, который однако дал писателю резкий ответ.
Кстати, по некоторым сведениям, расхождения между участником многих военных походов генералом Столыпиным и великим писателем пролегли не по пустяшным вопросам: спор имел принципиальный характер и касался державных проблем. В итоге разрыв между бывшими друзьями, участниками знаменитой вылазки на Черную речку был окончательный. Толстой, вопреки вероисповеданию не пожелавший придти на похороны, чтобы проститься со старым приятелем, вспомнит о нем только когда Россия заговорила о сыне отважного генерала. Согласитесь, что это как-то не укладывается в бытующее представление о «христианине» и «гуманисте Толстом», даже если принять в расчет, что этому поступку писателя предшествовала серьезная размолвка с бывшим соратником, который иронично относился с его духовным исканиям и от церкви не отступил.
Между тем, последующая полемика главы правительства П. Столыпина с живым классиком Л. Толстым стала для многих (и не только «подсоветских» людей!) одним из главных доказательств вины реформатора, не внявшего «голосу совести» и т. д. и т. п. Разумеется, по прошествии лет, в наш постсоветский период спор двух знаменитых соотечественников воспринимается не столь одиозно, и тем не менеее вопросы, позиции, оценки этого исторического диалога остаются злободневными и сейчас.
Итак, по некоторым свидетельствам, Толстой в 1906 году начинает интересоваться делами нового главы МВД, а еще через год, когда тот стал к тому же главой правительства, писатель направляет ему письмо, а также записку младшему брату реформатора – Александру Столыпину. Начинается письмо патетически:
«…пишу Вам не как Министру, не как сыну своего друга, пишу Вам как брату…».
В послании писатель ратует за упразднение частной собственности:
«Петр Аркадьевич!.. Нужно теперь для успокоения народа не такие меры, которые увеличивали бы количество земли таких или других русских, людей, называющихся крестьянами (так смотрят обыкновенно на это дело), а нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость… Несправедливость состоит в том, что как не может существовать права одного человека владеть другими (рабство), так и не может существовать права одного, какого бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею, как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею… Лев Толстой*».
В письме он также поучает главу Совета министров: знакомит его с учением Генри Джорджа и его «единым налогом» – как панацеей для устранения существующей среди землевладельцев несправедливости:
«Только начните это дело, – писал Толстой Столыпину, – и Вы увидите, как тотчас же примкнут к Вам все стомиллионное крестьянство, которое теперь враждебно Вам*».
А в записке писатель хлопочет за саратовского ветеринара, примкнувшего в революции к местным смутьянам и угодившего за это в тюрьму. Некоторое время младший брат премьера вынужден был исполнять роль посредника, Петр Аркадьевич, переживавший в новой должности тяжелое время, писал:
«Милый Саша! Если будешь отвечать Л. Н. Толстому, напиши ему, пожалуйста, что я не невежа, что я не хотел наскоро отвечать на его письмо, которое меня, конечно, заинтересовало и взволновало, и что я напишу ему, когда мне станет физически возможно сделать это продуманно»(с.222)*.
Наконец, в конце октября 1907 года Толстой, получает ответ:
«Лев Николаевич! Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие “собственности” у крестьян создает все наше неустройство.
Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею.
Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности.
А бедность, по мне, худшее из рабств.
Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным…
Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий –вероятно на миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что я думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем.
Сознаю, что все это пишу Вам напрасно – это и было причиною того, что я Вам не отвечал…
Простите, Ваш П. Столыпин»(с. 223)*.
Толстой в ответном письме пытается оспорить взгляды главного министра страны:
«Вы пишете, что обладание собственностью есть прирожденное и неистребимое свойство человеческой натуры. Я совершенно согласен с этим, но… истинное законное право собственности есть только одно: право собственности на произведения своего труда. Владение же землей при уплате на нее налагаемого на него налога не делает владение это менее прочным и твердым, чем владение по купчим. Скорее наоборот»(c.223)*.
По мнению Толстого, Столыпин совершает ошибки, начав бороться насилием против насилия и приступив к земельной политике, которая также несет «земельное насилие», разрушая общину. Писатель считает, что только признание земли «равной собственностью всего народа» и установление единого для всех налога, могут «успокоить народ и сделать бессильными все усилия революционеров, опирающихся теперь на народ»…И далее: «Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю… свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее последствий»(с.223).
Вместе с тем он словно сознает, что его призыв обречен на неуспех:
«Еще раз прошу Вас простить меня за то, что я мог сказать Вам неприятного, и не трудиться отвечать мне, если Вы не согласны со мной. Но, пожалуйста, не имейте против меня недоброго чувства»(с.223).
На этом полемика кончилась, точнее, далее носила односторонний характер. Столыпин в силу занятости не ответил на следующее письмо: он, образно говоря, одной рукой держал плуг, а другой отмахивался от наседавших со всех сторон врагов… Историки советской поры называли этот период «столыпинской реакцией», задавившей революцию…
А «яснополянский затворник» писал обличительные письма, статьи, из которых самой известной и гневной стала «Не могу молчать». В ней он подверг остракизму жесткость государственных мер, которыми власть пыталась остудить революционный запал, – в ту самую пору когда губернаторов и полицейских «стреляли как куропаток», а в России местами не осталось целых дворянских усадьб…
Любопытно, что уже после революции и гражданской войны в эмигрантской публицистике, а следом в СССР были преданы гласности сведения о том, что когда волна погромов докатилась до усадьбы писателя, семейство также не стало молчать: Толстые проявили осмотрительность и вызвали для охраны надежный отряд казаков… Знаменитый толстовский призыв «непротивления злу силой», который принес в русские души разлад и смятенье, был тогда позабыт…
Возвращаясь к полемике: есть свидетельства того, что позднее, уже в 1909 году, Л. Н. Толстой готовил премьеру очередное послание, которое, одумавшись, не окончил. А в знаменитых «Яснополянских записках» отмечено, что в разговоре о главе правительства, который состоялся 12 марта 1910 года писатель сорвался:
«Татьяна Львовна, дочь писателя, заметила, что “Столыпин влюблен в Закон 9 ноября”. “Столыпин влюблен в виселицу, этот сукин сын”, – резко ответил Лев Николаевич»(с.224)*.
А вот как видятся отношения этих великих людей с другой стороны – по впечатлениям старшей дочери реформатора:
«Впоследствии, когда мой отец был уже председателем Совета Министров, Толстой неоднократно писал ему, обращаясь, как к сыну своего друга. То он упрекал его в излишней строгости, то давал советы, то просил за кого-нибудь. Рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому дана была прозорливость Толстого, его знание души человеческой и глубокое пониманье жизни, как мог этот гений лепетать детски беспомощные фразы этих якобы “политических” писем. Папá еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва Николаевича, но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло»(с.224)*.
Как известно, Столыпину в начале века удалось остановить российский распад, и жизнь в стране постепенно снова входила в мирные берега: после реформ окрепла экономика, разворачивалось землеустройство на новых началах, открывались новые вузы. Лучшим свидетельством подъема стало укрепление российского рубля, которое было с лихвой обеспечено золотым запасом страны(!), причем, это в то самое время, когда валюта остальных развитых стран была обеспечена лишь наполовину. Здесь надо также принять в расчет, что золото России пополнялось, прежде всего, восполнимым продуктом, и не только и не столько хлебом, но, например, экспортным маслом, которое выручало золота больше чем все сибирские прииски(!). Трудовой российский люд медленно, но уверенно вылезал из вековой нищеты. Примечательно, что передачей крестьянам земли и организацией кооперативов потом займется и дочь писателя Александра Толстая, о чем она напишет в своих мемуарах (Дочь. «Заря», 1979, США). Впрочем, о расцвете русской деревни и кооперации до начала войны с восторгом поведали впоследствии и кадеты, которые вместе с Толстым шли против Столыпина и реформ…
Таким образом, спор с Петром Столыпиным Лев Толстой фактически на тот исторический момент проиграл. Может быть, осознание этого и подвигнуло писателя к ссоре с семьей, дальнейшему осложнению отношений с церковью и затем к «хождению в народ». Однако писатель олицетворял собой протест против против власти, как таковой, и потому оставался для всей российской оппозиции авторитетом, и его смерть в ноябре 1910 года дала повод новым страстям. Интеллигенция будировала вопрос о возможности посмертного снятия с Толстого отлучения от церкви, волновалось студенчество, московское купечество, возбужденные массы двинулись в Ясную Поляну и к месту захоронения на Фанфаронову гору…
Конечно, было немало и более трезвых умов. Например, сторонник отлучения бывший революционер-народник, впоследствии монархист, главный редактор «Московских ведомостей» Лев Тихомиров отправляет телеграмму митрополиту Антонию: «Умоляю ваше высокопреосвященство не допускать деяния, угрожающего расколом церкви», аналогичные послания другим видным церковнослужителям. Видимо, не без поддержки паствы «Синод подтвердил свое определение об отлучении Толстого и воспретил служить панихиды и литии по нем»(с.372)*. Но фрондирующие элементы пытались использовать эту смерть для возбуждения угасших страстей, и в Москве, Петербурге прошли «толстовские беспорядки».
В это сложное время Столыпин пытается найти с обществом компромисс, и, чтобы «предотвратить увлечения», по словам Тихомирова, даже идет навстречу общественному мнению, согласившись «поддержать “национальное чествование” Толстого покупкой на казенный счет Ясной Поляны», за которую наследники, почуяв важность момента, назначили ни много ни мало 2 миллиона рублей. И видимо, был в этом трезвый расчет: распространился слух, «будто американский банкир Шифф хочет купить Ясную Поляну и что там устроит народный университет, посредством которого будет бунтовать народ*»…
Однако по мнению министра финансов Коковцова родственники заломили за усадьбу цену в десять раз больше реальной, министр посчитал это все за шантаж, и возникли противоречия, в результате которых П. А. Столыпин оказался и в Госсовете, и в Государственной Думе в крайне невыгодном положении.
Для завершения темы взаимоотношений Столыпина и Толстого, которые были, по сути, представителями противоположных мировоззрений, любопытно также познакомиться с мнением Николая Бердяева, который в своей работе «Духи русской революции» высказал следующее мнение: «Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому был злым гением России, соблазнителем ее… В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание… В то время как принятие этого толстовского морального сознания влечет за собой погром и истребление величайших святынь и ценностей, величайших духовных реальностей, смерть личности и смерть Бога, ввергнутых в безличную божественность среднего рода… Исторический мир – иерархичен, он весь состоит из ступеней, он сложен и многообразен, в нем – различия и дистанции, в нем – разнокачественность и дифференцированность. Все это так же ненавистно русской революции, как и Толстому. Она хотела бы сделать исторический мир серым, однородным, упрощенным, лишенным всех качеств и всех красок. И этому учил Толстой, как высшей правде. Исторический мир разлагается на атомы, и атомы принудительно соединяются в безличном коллективе*».
Однако, до сих пор для либеральной публики литератор Толстой – козырная карта против Столыпина и его знаменитых реформы. И, может, потому в российском обществе доныне живучи ярлыки старых его оппонентов (И..Короленко, Ю. Витте, П. Милюкова, А. Изгоева-Лянде, В. Ленина) и народившихся критиков новой поры (Г. Попова, А. Авреха, М. Гернета, С. Кара-Мурзы и т. д.). Причем, отзвуки этих оценок можно встретить даже в самое неподходящее время – например, в дни когда отмечается столетие гибели реформатора, и, казалось, бы противникам можно смолчать…
Так, на состоявшейся в Москве очередной конференции, приуроченной к трагической дате, некая завидно титулованая ученая дама, которую представили как «видного специалиста по Толстому, Солженицину и т.д.» – в качестве главного аргумента поминала вышеуказанную полемику, а также чьи-то замшелые фразы о крахе реформ. И основательные возражения оппонентов, ссылки на Чаянова (который высоко оценил результаты реформ!), другие первоисточники и контраргументы эта «толстоведка» брать в рассчет не желала. А в качестве доказательства своей правоты сослалась на материалы, которые опубликованы в «Ясной поляне». «Вот вы поезжайте в «Ясную поляну» и почитайте…» – таков был заключительный рефрен ее пространного выступления, вектор которого было невозможно определить. Любопытно, что уже в течении, так сказать, культурной программы, завидя противную сторону, дама нарочито громко сказала, что «за Толстого любого порвет». И сомнений в том нет: невозможно представить, что на какой-нибудь толстовский праздник пробрался убежденный насмешник и оппонент и стал вещать с трибуны противные речи – ведь, его толстовцы, в самом деле, сдадут в околоток или порвут…
Видимо, здесь налицо феномен «образованщины» (солженицынский новояз), то есть, особенность некоторых просвещенных людей, не способных среди теорий и знаний распознать реальную жизнь и опасность чрезмерного возвышения роли словесности. Между тем жизнь убеждает, что нельзя ставить знак равенства между великим писателем и мудрым политиком, а Толстой в политике был вовсе не лев… Найти и указать спасительный выход стране в критический час, убедить в своей правоте не менее просвещенного и умного оппонента (каковым был для Толстого реформатор Столыпин!) оказалось гораздо сложнее, чем загнать под поезд слабую даму или вести на бумажных полях сражения гусиным пером… В самом деле, переоценка литературных возможностей и дарований, перенесение их в область политики – в реальной жизни чреваты недоразумением, провалом, бедой.
О беде, которую нес России Толстой, говорили многие его современники и даже родня. И не без основания предавали его остракизму – и богословы, и ученые соотечественники. А вот, например, свидетельства его родственницы А. А. Толстой: «…он издевался над всем, что нам дорого и свято… Мне казалось, что я слышу бред сумашедшего… Наконец, когда он взглянул на меня вопросительно, я сказала ему: „Мне нечего Вам ответить; скажу только одно, что, пока Вы говорили, я видела Вас во власти кого-то, кто и теперь еще стоит за Вашим стулом„. Он живо обернулся. „Кто это?“ – почти вскрикнул он. „Сам Люцифер, воплощение гордости»…»
В одном из посланий Столыпину Толстой написал: «Ваша деятельность губит Вашу душу». Но внимательное знакомство с поздними идеями мятежного классика наводит на мысль о том, что забота о душе своего визави была лишь литературным приемом, и, похоже, душа самого Толстого нуждалась в защите – высшей духовной опеке, которую он под мирскими страстями отверг. В итоге богоборческая гордыня довела гения российской литературы до последней черты…
Геннадий Сидоровнин